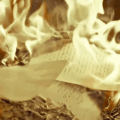Epistola non erubescit
Кастилия, г. Альтамира, сад поместья, 16.11.1562
Монсеррат Медина, Диего Медина
В погожий день сезона плодов Диего приглашает Монсеррат помочь ему разобраться с архивными письмами и документами, присланными из Калабры. Что может пойти не так?
[1562] Письма не краснеют
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться12025-06-23 18:42:23
Поделиться22025-06-27 14:50:43
[indent] Монсеррат любила бумагу. Будь то страницы книг и фолиантов, письма или свитки рукописей. Ей нравилось прикасаться к теснённым книжным переплётам, перелистывать сухие страницы, вдыхать этот ни с чем несравнимый аромат. У бумаги десятки запахов. Что-то пахнет затхлостью и старой кожей, что-то – чернилами и сургучом, а ещё пылью, сандаловым деревом или сладкими женскими духами. Запах бумаги может рассказать многое: сколько ей лет, чьи руки к ней прикасались, как часто читали и перечитывали. Она хранит в памяти своих прошлых владельцев, хранит историю. Неудивительно, что Монсеррат с удовольствием согласилась помочь отцу разобрать скопившийся за десятки лет, скажем так, семейный архив, доставленный в столицу Кастилии из Калабры.
[indent] Расположиться решили в саду. Погода стояла чудная, и было бы настоящим преступлением запереться в такой день в четырёх стенах. Туда же герцог де ла Серда велел подать и завтрак для себя и дочери. Монсеррат ела мало, в ней уже горел азарт охотника, которому не до еды и отдыха. Она без особого энтузиазма сжевала кусок белого хлеба, сдобренного шалфеем, и покромсала на тарелке кусок варёной говядины. В ожидании предстоящей работы мысленно девушка уже потирала руки. Её глаза горели приятным предвкушением, и она физически ощущала, как от нетерпения покалывали кончики пальцев.
[indent] - Так много! – восторженно резюмировала Монсеррат, когда на длинном столе вместо тарелок и бокалов появились кипы бумаг. – Похоже, все Медина скрупулёзно ведут свои дела.
[indent] Поудобней устроившись в кресле, Монсеррат принялась за дело. Бережно подвинув к себе высокую стопку бумаг, она детально и педантично вычитывала каждую строчку, каждое слово. Отдельные листы из-за старости были настолько хрупкие, что рассыпались в пальцах, другие оказалось сложно прочесть из-за размытых или выцветших чернил. Но Монсеррат упорно расшифровывала каждую букву, даже если написанное не имело никакой ценности. Сметы, счета, расписки, долговые обязательства, трактаты, фидуции – всё это она раскладывала в три стопки. В первую уходило то, что можно без зазрения совести сжечь в камине и забыть. Например, расписка одного барона, чей род давно прервался и спросить уже было не с кого. Во-вторую девушка отправляла документы, ещё имеющие силу. Об одних договорённостях помнили и сейчас, о других успели забыть, но в интересах семьи о них не помешало бы напомнить. Третья стопка пополнялась гораздо реже остальных, но вызывала самое настоящее благоговение. Личные записи и переписки членов семьи Медина разных поколений. Для Монсеррат это было настоящее сокровище, клад из прошлого, история семьи, её история. С особым трепетом она касалась письма своей матери, которое та написала в те времена, когда Монсеррат ещё и на свете не было. Так удивительно было обнаружить эту крохотную частичку своего родного человека. Маргарита Медина мертва, но кусочек её жизни до сих пор хранится на небольшом клочке бумаги. Это ли не чудо!?
[indent] Монсеррат очень долго не могла выпустить из рук это письмо. Она перечитала его несколько раз, обвела пальцем все без исключения буквы и даже поднесла к лицу, в надежде почувствовать знакомый запах. Монсеррат была вполне в сознательном возрасте, когда погибла её мать, но в памяти почему-то осталось совсем немногое. Она помнит горчичного цвета домашнее платье Маргариты, светлые длинные локоны волосы, тонкие пальцы, помнит голос, чистый как хрусталь, но, как ни странно, совсем не помнит её лицо, и если бы не портреты почившей герцогини, то её облик давно погас бы в сознании.
[indent] Отложив наконец-то письмо матери, Монсеррат вытащила из кипы большой пухлый конверт с остатками королевской печати, в котором обнаружила несколько писем, написанных разными почерками. Девушка пробежала глазами по одному, по второму, а когда перешла к третьему, то на голове зашевелились волосы. Содержание писем хоть и подразумевало сотрудничество, но вот предмет этой сделки не укладывался в голове. Авторами переписки оказались отец ныне покойного короля Кастилии Фердинанда Второго и Алехандро Сантьяго Альваро Медина, дед Монсеррат. Первый сделал второму заманчивое предложения, но вот ответная услуга носила столь пикантный характер, что даже Монсеррат, которая привыкла мыслить рационально и без лишних эмоций, впала в ступор.
[indent] Она колебалась, отправить ли молча эту мерзость в стопку к приговорённым к сожжению бумагам или показать отцу. Знал ли Диего Медина, что стал разменной монетой и пешкой в чужой игре, средством обогащения и увеличения семейных капиталов? И, если нет, то хотел бы он это знать? А может, предпочёл бы жить в неведении? Исподтишка поглядывая на отца, Монсеррат задавала себе эти вопросы, на которые сама ответит не могла и не имела права.
[indent] - Отец, ты хорошо помнишь, как впервые попал во дворец? Каково это было, покинуть родной дом? – девушка прикрыла свою находку старой потёртой картой принадлежавшего её отцу герцогства. – Как это случилось и когда? Ты был рад или тебя не больно то и спрашивали? Расскажешь?
[indent] Монсеррат никогда не принимала импульсивных решений. Каждый свой поступок, пусть даже самый незначительный, она продумывала и просчитывала, взвешивая все за и против. Ситуация со случайно открывшимся ей секретом не стала исключением, поэтому она решила начать издалека, прощупать, так сказать, почву, а уж потом думать, что делать с этой информацией.
Отредактировано Montserrat Medina (2025-06-27 14:51:59)
Поделиться32025-07-09 23:37:13
Диего Медина, герцог де ла Серда, маршал Кастилии, глава регентского совета и прочая-прочая-прочая — бессовестно многое количество раз обещал своей матушке, вдовствующей герцогине, что разберёт тот невообразимый хаос писем, документов, расписок, посланий, донесений, записок и прочего, что досталось ему в наследство от покойного Алехандро Медины вместе со всеми его землями, доходами, крестьянами и вассалами. Дон Диего старался приезжать в Калабру не реже раза в год, а лучше два раза, но всякий раз его хватало лишь на разрешение самых срочных, не терпящих отлагательств дел родного герцогства, кои не могла своим острым словом и жёсткой рукой разрешить светлейшая донна Рамона. Столкновение же с кипой бумаг, требующих внимания пристального и длительного, фрустрировало Диего, и он всякий раз пробегался лишь по верхам, с готовностью отвлекаясь на прелести жизни — будь то охота со старшими детьми, ужин в кругу семьи, разрешение вассальных вопросов или прозябание в той части сада, где даже самое невинное соцветие способно было лишить человека жизни.
Спустя столько лет донне Рамоне надоело выслушивать бесконечные “в следующий раз” и в один прекрасный день она самостоятельно расхламила бывший кабинет Алехандро со всеми его архивами, приказала неграмотным слугам собрать всё это по коробкам и отправить в Альтамиру, прямиком в столичное поместье дона Диего. Таким образом бегать от выполнения неприятных и почти бюрократических обязанностей стало решительно невозможно. Спасение, впрочем, нашлось быстро, и нашлось в лице родной дочери, которая нет-нет да намекала, как стремительно тупится её ум в окружении фрейлин королевы, у которых разговоров лишь о тканях, драгоценностях, десертах да замужестве. Диего помнил, сколь полезным было вмешательство Монсеррат в бумаги герцогства, а потому без сомнений попросил дочь о помощи, предупредив королеву Софию о том, что Монсеррат нужна ему будет в его поместье с полудня и до времени позднего ужина в следующие несколько дней.
Не то чтоб у Её Величества был выбор.
Вопрос Монсеррат заставил дона Диего оторваться от письма, которое он почти закончил. В завязь сезона снегов предстоят переговоры с кайзером Айзена. Королям — то есть, кайзерам — не отказывают, а потому положительный ответ был неминуем.
— Это было внезапно, — он замолчал, дописал последних несколько слов и отодвинул от себя перо и бумагу. Пусть просохнет. Потом дело за подписью королевы. — Меня не спрашивали, просто сказали, что я отправлюсь ко двору. Я всё интересовался, почему не Пабло, как старший или не Федерико, он ведь второй сын, а я только третий.
Дон Диего плохо помнил первые месяцы в Альтамире; отдельные вспышки воспоминаний, то смутных и туманных, то пронзительно ярких и чётких, от которых щемило в груди — всё, что было у него о том времени. А потом он привык.
— Матушка сказала, что Пабло с Федерико не пропадут, а вот мне придётся всего добиваться своими силами. Я ведь не наследовал ни титул, ни земли, и к Господу у меня душа не лежала, — столкновение со столичными нравами глубоко поразило мальчика, которым Диего был тогда, но сейчас он, уже взрослый мужчина, вспоминал об этом спокойно. — Отец сказал поменьше болтать и побольше слушать. Наказал мне не опозорить имя нашего рода, но при необходимости — не бояться оправдать его.
Герцог мягко улыбнулся, глядя на Монсеррат. Все его дети ко двору были приставлены гораздо… мягче. Диего оградил их, насколько мог, от того, с чем столкнулся когда-то сам. Королевский двор ко всем его детям отнёсся куда благосклоннее, чем к нему самому.
Он попал к веселому двору инфанта Фердинанда. Они же всегда были под заботливым и строгим надзором королевского валидо, готового прикрыть собой каждый острый угол.
— Мне было четырнадцать. И Альтамира, конечно, очень отличалась от Калабры… Всё новое, необычное. Какое-то время я чувствовал себя одиноким, а потом… привык, освоился. Человек ко всему привыкает, моя звёздочка.
Даже к виселице.
Поделиться42025-07-10 07:55:36
Внимательно слушая отца, Монсеррат то и дело бросала взгляд на королевское послание, словно пыталась сравнить то, что рассказывал герцог де ла Серда с тем, чего хотел король Кастилии от его отца, тогда еще четырнадцатилетнего юноши. Видел ли король этого юношу? Монсеррат кивнула, слушая отца, но мысли ее на несколько мгновений сосредоточились на вопросе, а каким он был, блистательный маршал Кастилии, в отрочестве? Она не помнила, чтобы о ком-то из братьев отец говорил, будто бы тот чрезвычайно похож на него. Да и мама обращала внимание на сходство каких-то отдельных черт лица или характера. Где-то в калабрийском Палаццо висел портрет герцогских сыновей, всех троих. Но написан он был в модной тогда манере и строгие лица юношей выглядели восковыми и бледными, а вот одежда, пурпур и золото, черный бархат и жемчужные подвески, чеканка на позолоченных ножнах и белое кружево тугих воротников мастер изобразил тщательнейшим образом. Как и его братья, дон Диего на той картине был тощим, скуластым и тонкогубым юнцом с пустым взглядом.
Таким Монсеррат легко представляла дядю Пабло, ныне отца Стефано, аббата францисканского монастыря, но никак не своего отца, яркого, деятельного и полного жизни человека с улыбкой, на которую невозможно было не отвечать своей. Дон Диего и в свои сорок пять был красивым мужчиной, а уж в юности…
Но уму и воображению Монсеррат недоставало жизненного опыта и потому мысленно снять редкие, но заметные морщины с висков и лба, да тяжесть с век герцога ей не удавалось, и юноша из его рассказа оставался кем-то другим, не тем доном Диего, которого она знала и любила, но сыном герцога Алехандро де ла Серды. Третьим, тем кому в лучшем случае оставляют содержание или дают наместнические посты – управлять замками и деревнями на окраинах владений старшего брата. Или же позволяют самому добывать золото и славу.
- И какую же должность тебе обеспечил дон Алехандро? – спросила Монсеррат глухим, словно чужим, голосом.
Мальчиков-пажей при дворе было много, куда больше, чем девиц в свитах королевы и принцессы. Они служили, по мере сил выполняя поручения знати, много учились, отдавая время не только постижению семи свободных искусств, но и фехтованию. Ну а отличившихся приставляли в качестве помощников к донам, ведающим казной или армией, налогами и расходами и уже при них юноши постигали тонкости управления… страной.
Покойный король не обещал герцогскому сыну никакого поста, он просто требовал Диего ко двору, бросая несколько фраз о том, что если своим присутствием тот сумеет отвлечь инфанта от некоего Эстебана Линареса, его услуги будут достойно вознаграждены.
Как?
О, Монсеррат догадывалась. Калабрийские вина не облагались королевской пошлиной и поставлялись ко двору, сделавшись неотъемлемой частью всякой трапезы. И если фалернское считалось лучшим с незапамятных времен, то Миэль дель Калабра стало популярнейшим из вин за последние годы. Скорее всего было еще что-то, что оставалось вне поля её зрения.
- Я тоже привыкла, - она улыбнулась через силу, - но мне в радость провести несколько дней с тобой и по двору я вовсе не скучаю.
Выучившись врать еще в отчем доме, Монсеррат не питала интереса к лицедейству, а потому носила одну только маску – теплого внимания ко всякому собеседнику, не пытаясь изображать восторг или искренность, отчего многие считали ее надменной или холодной. Монсеррат знала что в дни ее отлучек среди фрейлин начинается соперничество за право служить в королевских покоях, но её это нимало не тревожило. Случись Её величеству обзавестись любимицей и отказать Монсеррат в должности камеристки, девушка, не покривив душой, поблагодарила бы королеву за честь и доверие, что были оказаны и тотчас попросилась бы в помощницы к вдовствующей баронессе Герейра, что жила при дворе вместе с сыновьями и, не имея должности, заведовала устроением всех выездов и приемов. Именно о такой жизни в будущем мечтала сама Монсеррат.
- Ты часто вспоминаешь то время? Расскажи, что тогда творилось при дворе? Королева София - женщина тонкого ума и многих достоинств, но двор при ней, мне кажется, похож на луг с цикадами. Треск и стрекот. И ничего больше…
Конечно, инфант Филипп слишком юн, а королева вынуждена блюсти безупречную репутацию в глазах придворных, а потому не может писать герцогу де ла Серда с требованиями прислать ко двору красавца Риккардо, дабы тот защищал её жизнь и честь, а ее саму – от ночных кошмаров.
Или может? Просто внимание её направлено на кого-то другого?
- И как долго ты служил при…инфанте?
Поделиться52025-07-11 01:53:14
Дон Диего давно уже не удивлялся вопросам Монсеррат, какими бы странными они ни были. Ей было девять или десять, когда он начал чувствовать себя рядом с ней дурачком — но виду, конечно, не подавал, оберегая свой родительский авторитет даже несмотря на то, что ответы на его вопросы у него давно закончились. Вот и сейчас герцог не удивился интересу Монсеррат к его прошлому. Пожалуй, это было даже ожидаемо при их занятии, да и ответы на эти вопросы у него, слава богу, имелись, пусть он и не мог рассказать дочери всё.
— Первое время я был чашником Фердинанда, — спокойно отозвался Диего. — А потом… сложно сказать, мы с ним почти не расставались. И я был всем, кем он хотел меня видеть. Вместе пили, вместе охотились, я помогал одеваться… — и раздеваться.
Многолетняя дружба покойного короля Фердинанда с доном Диего не была тайной ни для кого, как и тот факт, что сблизились они достаточно быстро. Секретом была лишь причина, по которой в едва стукнувшие восемнадцать Диего вдруг на долгих восемь лет покинул двор — покинул стремительно, одним днём, с чёрным от горя лицом. Сам Фердинанд отрицал опалу и утверждал, что Диего был и остаётся желанным гостем, что и подтвердилось годами спустя, когда Диего вернулся в Альтамиру с женой и детьми: Фердинанд радушно принял его, а через несколько месяцев, короновавшись и войдя в курс дел, объявил своим валидо.
— Двор инфанта называли “весёлым” и не без причины, — дон Диего рассмеялся, и негромкий смех его был раскатистым, бархатистым. — Там не творилось ничего из того, о чём следовало бы знать или хотя бы догадываться юной донне вроде тебя. Мы были молоды и горячи, в головах у нас был ветер и придурь. Почти все боролись за расположение будущего короля в поисках выгоды для себя, своих семей и земель. Самыми разными способами. Полагаю, эта часть придворной жизни тебе хорошо знакома? До государственных дел едва ли кого-то пускали. На то был старый король и его двор.
Герцог окинул взглядом головой письмо и снова посмотрел на Монсеррат. Он мнил, что хорошо знает своих детей, а потому был уверен, что за расположение королевы Софии его дочь едва ли борется — ей это попросту не интересно, как и ему в своё время не были интересны политические дрязги; поначалу он пытался выжить при весёлом дворе инфанта Фердинанда, а потом, обнаружив в своём сердце чувство новое, ранее неизведанное, стремился к тогда ещё инфанту телом и душой — к нему самому, а не его высокому статусу и власти.
У Монсеррат же не было нужды включаться в гонку за непременное расположении инфанты Лауры или королевы Софии. Она и без того была дочерью человека, в чьих руках была реальная власть. После смерти короля Фердинанда управлял Кастилией именно Диего.
— Я был при нём все четыре года, — убедившись, что чернила высохли, дон Диего скрутил письмо в трубочку. Надо будет передать его во дворец, остальным пусть сами занимаются. У него и без того дел невпроворот — накопились за все те девятнадцать лет, в течение которых он с почти мальчишеской удалью избегал соприкосновения с прошлым, предпочитая жить настоящим и думать о будущем. — И потом, когда вернулся в Альтамиру, как валидо служил ему до самой смерти, — он снова улыбнулся Монсеррат. — Почему ты спрашиваешь?
Поделиться62025-07-13 04:38:09
Ни один из талантов, коими Монсеррат была одарена, не сделал её ни счастливой, ни довольной собой – возникновению таковых чувств препятствовал критичный и беспокойный ум, который Господь в странной своей щедрости добросил ей сверх всего, что дал от рождения. Ум, который надобно было смирять больше, чем находить ему пищу для размышлений. Поскольку таковой всегда было с избытком в любой беседе с любым человеком о нем самом. Вот и теперь, при упоминании доном Диего «веселого двора» покойного короля, губы Монсеррат едва заметно дрогнули, а легчайшее усилие воли определило им кроткую вежливую улыбку вместо брезгливой усмешки. Как всякая добродетельность, лишённая гордыни, чистота Монсеррат не доставляла ей удовольствия даже в том, чтобы ощущать себя примером для всех тех женщин и девушек, каковые не блюли себя в строгости. Она полагала это лишь частью образа достойной женщины и обязанностью герцогской дочери вести себя безупречно и тихо завидовала тем, кто таковых обязанностей был лишен.
- Чашником… - интонация ее голоса была непередаваемой, - больше, чем слугой, ближе, чем другом…
Сказанное вовсе не было суждением самой Монсеррат. Она далека была от чувственной стороны придворной жизни и защищена от всяких посягательств на свою честь именем отца. Но именно это определение будущей роли Диего Медина при дворе и при инфанте давал король.
- Мне, благодаря твоему положению, отец, не пришлось бороться ни за место в королевской спальне, ни за внимание Её Величества.
А вот двусмысленность, с которой прозвучали эти слова, допущена была намеренно, хотя и звучала предельно иронично. Она взглянула в глаза отца.
Поколебалась, прежде, чем, оставив в руке одно письмо, то самое, которое неосторожно прочла, передать герцогу стопку писем. Щеки ее горели от смущения. Позволь Монсеррат решать себе участь этой переписки, бумаги отправились бы в огонь. Но все эти изящно выписанные строки не принадлежали ей и её не касались.
- Пожалуй, я схожу на кухню, - как только письма оказались в руке герцога, она встала, - узнаю, как там дела. Паола обещала пирог с грушами и изюмом. Летом он обычно хорош, но мне любопытно, что получится из сушеных фруктов…
Интерес к поварским талантам или, к примеру, судьбе чистых простыней, коими ведала экономка, просыпался у Монсеррат только в тех случаях, когда ей необходим был деликатный предлог покинуть чье-то общество. В том, что кухарка Паола не подаст к господскому столу ничего, что бы ее язык не признал достойным столь высокой чести, Монсеррат не сомневалась. А уж какими чарами и приправами вяленые груши сделаются нежны и вкусны, ей и подавно не было интересно.
Любопытство же её желало знать, кто таков Эстебан Линарес и чем не угодил покойному королю в близости своей с веселым и охочим до развлечений инфантом, но спросить об этом она, конечно же не посмеет. Разве что после, когда вернется во дворец, сможет разузнать об этом человеке у придворных дам.
Поделиться72025-07-24 18:00:34
Что-то дрогнуло в тёмных, почти чёрных глазах дона Диего, когда он услышал слова дочери о борьбе за место в спальне; конечно, многие из тех слухов, которые ходили о покойном короле Фердинанде и самом Диего были правдой, а кое-какие домыслы становились правдой позже, когда доходили до мужчин и если они, домыслы эти, были достаточно занятны и приятны для претворения в жизнь. Его Величество едва ли всерьёз беспокоился, что люди думают о его отношениях с его валидо; сам же валидо, имея любовь народа, звон медового золота, поддержку армии и беспрецедентные поддержку и доверие короля, мог позволить себе удовольствие посмеиваться над чужими шепотками, зная, что репутации его это не навредит.
Право слово, даже бастарды, дело обыкновенное для всякого любвеобильного и плодовитого мужчины, бросали на Диего тень чуть большую, чем кулуарный опасливый шёпот, смакующий выдуманные — и не очень — подробности того, чем же валидо и король Фердинанд могут быть заняты в покоях последнего.
И всё же детей своих от подобных разговоров дон Диего старался ограждать настолько, насколько это было возможным, но годы показывали, что если дети воспитываются при дворе, решительно невозможно утаивать от них то, над чем не имеешь ни малейшего контроля. Верили ли они этим слухам? Диего никогда не говорил с ними об этом, он не собирался ни подтверждать, ни опровергать истинную полноту его с покойным Фердинандом отношений, и даже в мыслях своих он старался избегать этой темы. Казалось неуместным и странным согласиться с истинной частью слухов перед собственными отпрысками, но не менее неуместным казалось лгать им в лицо.
Иными словами, дон Диего снова умело избегал некоторых неудобств, которые настигли его, когда старший из детей стал достаточно взрослым, чтобы понимать, о чём шепчутся за спиной отца. И вот теперь Монсеррат швырнула эти неудобства ему в лицо.
— Монсита?..
Герцог видел, как пылают щёки дочери. Вероятно, ей нелегко далась брошенная ею двусмысленность. Или дело в ином?.. Глядя на Монсеррат равно с удивлением и непониманием, дон Диего взял в руки стопку писем, что она передала.
Стоит ли остановить её, строго образумить? Диего всё-таки её отец, а не служка, которому в лицо можно бросить подобное. Или прежде остыть, узнать о причинах её поступка? Монсеррат не была склонна к дерзости ради дерзости, как Эвелис, чей нрав, огненный и гневный, порой превращал её в форменную грубиянку; старшая из дочерей быстро вспыхивала, но и остывала так же быстро, и в том напоминала дону Диего его самого в прежние годы. Монсеррат же была… слишком умна для подобных вспышек, слишком сдержанна, слишком расчётлива — видят боги, если бы в сердце герцога было чуть меньше любви к ней, он бы её опасался.
Она ушла. А он остался.
Вероятно, причина колкой двусмысленности Монсеррат, как и её пылающих щёк, содержалась в письмах, которые она передала дону Диего. Почерк был ему незнаком, но подпись он хорошо знал — она принадлежала старому королю, отцу Фердинанда — Карлу. Под рукой не было писем Алехандро, чтобы получить полную картину, возможно, они сохранились где-то в королевских архивах, можно сделать себе труд найти, но…
Взгляд спотыкался о слова. Изжелтевший от времени лист пергамента дрогнул в руках дона Диего. С каждой новой строкой на сердце делалось всё тяжелее, пока, наконец, на грудь не легло мёртвым грузом осознание — тревожное, полное отвращения, застарелых страха и боли, полное невыносимого напряжения, желания надраться и помочиться на могилу отца осознание, которое сопоставило забытые горькие детали в единую картину.
***
Когда Монсеррат вернулась, дон Диего сидел на полу у камина; заканчивая перечитывать очередное письмо, он жестом равнодушным и почти безжизненным бросал его в огонь. Бумага сворачивалась от жара, вспыхивала, истлевала и обращалась пеплом. Пламя надёжно хоронило тайну предательства — беспринципного, алчного, грязного… В тёмных глазах отражались острые языки пляшущего в камине огня, но когда он повернул голову к Монсеррат, пламя уступило место выжженному пепелищу.
— Полагаю, — заговорил он медленно, голос звучал тихо и глухо, — ты сейчас хочешь о чём-то спросить меня?
Поделиться82025-08-06 10:31:27
Дерзить отцу Монсеррат перестала давно, уяснив для себя годам к двенадцати, что даже самые разумные доводы злят старших, особенно в тех моментах, когда те чувствуют себя глупо и нелепо. И тогда разговоры уступают место запретам ради запретов и наказаниям, к которым даже отец прибегал, не потому что был прав, а потому что мог. Вот и теперь Монсеррат предпочла уйти, чтобы обдумать то, что успела прочитать и не успела наговорить, дать себе и герцогу время успокоится и определить приоритеты.
Стоило ли ворошить отцовское прошлое? Стоило ли расспрашивать его дальше?
Определенно, нет.
Слишком много прошло времени, чтобы эта информация могла как-то повлиять на положение дона Диего при дворе, а потому оставалось надеяться, что вторая часть переписки просто не сохранилась, преданная огню королевской рукой. До кухни Монсеррат и в самом деле сходила. В том не было никакой надобности, но лгать отцу из деликатности не хотелось даже в такой мелочи. Она стоически вытерпела суетливую подобострастность служанок и кухарок, поспешивших рассказать ей, что рябчики нафаршированы и жарятся, нанизанные на вертела, фазаны, купленные поутру томятся в тени, чтобы мясо сделалось мягче, а после будут вымочены в соусе и зажарены завтра, ну а пирог уже поспел и обязательно будет подан к столу. После же неспеша возвратилась в отцовский кабинет и тихо встала в дверном проеме, глядя, как он с каменным лицом бросает в огонь последние письма.
Они встретились глазами, но сил улыбнуться герцогу Монсеррат в себе не нашла. Покачала головой, вместо ответа на его вопрос. О чем она, дитя, могла спрашивать отца в такой момент? Знал ли он, что был продан и предан собственным? Едва ли…
Едва ли в Кастилии был другой, подобный дону Диего человек, столь широких взглядов, чтобы не видеть в своих детях средство для осуществления собственных замыслов и планов, а людей, которым оставил право выбирать свое будущее и просто любил каждого из них всем сердцем.
- На мои вопросы дедушка точно не пожелал бы отвечать, - сказала она негромко, а ты не можешь сказать за него. Но я достаточно узнала придворной жизни, чтобы ничему не удивляться. Скажи только… ты и в самом деле до сих пор скорбишь по королю? Он… стоил ли он всего, что ты отдал ему и службе Сандавалам?
«И как хорошо, - подумалось ей в этот момент, - что Эвелис и Макдара – маги, и юность их была защищена той загадочной Академией, где обучались им подобные, защищенные ее стенами от королевских прихотей». Теперь же Фердинанд был мертв и не мог бы диктовать своему валидо, как распоряжаться судьбами детей.
- Я думаю, ты был бы лучшим правителем для Кастилии, - добавила она, помолчав, - твое сердце умеет любить, а разум мыслит иначе, чем у прочих. Но ты все еще верен Сандавалам, и будешь править из тени за троном, пока инфант не сможет взять правление в свои руки. Да и сможет ли? Королева умна, Совет силен…
Она не позволила себе откровенно предательских речей, но знала, что отец её поймет.
Поделиться92025-08-06 13:25:36
Губы дона Диего скривились в подобии горькой улыбки, похожей не на оскал даже, а на рваную рану с разошедшимися краями.
— Твой дедушка давно кормит червей в земле.
В самом ли деле Диего до сих пор скорбел по королю?
Мысли его невольно обратились к Маргарите. Как нужна она была ему, как необходима! Его лазурная тихая гавань, спокойствие которой могло унять даже самый жестокий огненный шторм. Как мог Господь забрать её так рано? У Диего, у их детей, у целого мира… как мог он отнять бесценную жемчужину, что была путеводной звездой? Почему? Разве здесь есть справедливость?
Дон Диего оттянул ворот рубахи; она и так не давила ему, но он всё равно задыхался. "Аскасо… мне нужно в Аскасо."
— Мне жаль, если тебя это не удивляет, — он отвёл взгляд, оттягивая миг ответа на вопрос, который и его самого теперь занимал. — Значит, я недоглядел. Недостаточно оградил тебя от этой… от всего этого.
Конечно, появление детей Диего при дворе прошло куда мягче, чем его собственное. Бессердечный цинизм поднял свою голову в самом эпицентре пепелища и герцог, поморщившись от досады, самому себе невольно признался — его детей не трахали.
В четырнадцать дон Диего считал себя взрослым. В тридцать четыре, глядя на своих четырнадцатилетних старших детей, давил в себе нехорошее чувство беспокойства, не видя в них достаточно взрослых, ему всё казалось, что сам он в те годы был взрослее. В сорок четыре же… нет, ему уже сорок пять, — в сорок пять он в ужасе думает, что сталось бы с ними, четырнадцатилетними детьми, попади они в постель хищника, коим был король Фердинанд.
— Вся моя жизнь состоит из верности королю, — размеренно произнёс герцог. — Что останется в ней, если я пожалею? — дышать ему стало ещё тяжелее. Он вздохнул — глубоко, шумно, выдавая неровный стук сердца. — Фердинанд был и остаётся моим королём, а значит, я не могу не скорбеть по нему. Я не имею на это права.
Королям не отказывают в скорби.
Знал ли сам Фердинанд? Из писем складывалось ощущение, что едва ли. И всё же ощущение мерзкое, дурное и гадливое охватило дона Диего, заполнило собой все пустоты в его теле и душе, свернулось в горле комом размером со всю Альтамиру.
Королям не отказывают.
Диего посмотрел на Монсеррат.
— Знаешь, сколько раз я ослушался его приказов? Один. Один-единственный в жизни раз я нарушил прямой приказ короля, — он рассмеялся. Тихо и глухо. — Был бы правителем лучшим — чем кто? Чем Фердинанд? Я вернулся ко двору в сорок третьем и с тех пор мы с ним правили вместе. Ты же не думаешь, что я стал валидо лишь потому, что согревал его ложе?
Королям не отказывают.
Снова захотелось отвести взгляд, но дон Диего заставил себя продолжать смотреть в глаза дочери. Близость камина грела — почти обжигала — с одной стороны, почему же вторая тоже горит?
— Совет силён, покуда там я и Клермон… Королева опирается на сильных союзников, Виттория хороша в обращении с золотом, но политик из неё… скажем так, честность — не порок, а эксцентричность не добродетель. Остальные не так важны.
Диего повернул лицо к камину и закрыл глаза.
— Фердинанд хотел видеть Филиппа следующим королём. Что до меня… то я и герцогом не должен был стать, но Господь распорядился иначе. Федерико отцу никогда не перечил, только улыбался и кивал. Старик так и помер, считая, что в наследство вступит он, а не я. Тело отца ещё не остыло, а Федерико уже отказался от титула и земель в мою пользу… И теперь я чертовки жалею, что отец этого решения не застал. Его любимчиком я никогда не был, — дон Диего поднял веки и бросил в огонь последнее письмо. — Что же… мы обязательно с ним встретимся в аду.
Поделиться102025-08-07 13:22:03
Наученная скрывать свои суждения за внешним смирением и всем своим поведением выказывать спокойствие и кротость, Монсеррат вовсе не сделалась кроткой и смирной. Просто стала хитрее и научилась выстраивать сложные ходы к достижению своих целей, отказывая себе в удовольствии заполучить что-то своими трудами, предпочитала добиваться желаемого склоняя других сделать то, в чем была заинтересована сама, добровольно отдавая в ее распоряжение плоды своих усилий. Но пока все её достижения не стоили упоминаний – мелкие, девичьи интриги. Ленивое соперничество с юными фрейлинами королевы не доставляло Монсеррат ни малейшего удовольствия – выученный ею при дворе язык цветов и веера, был куда проще символики, каковую использовали кастильские живописцы, чтобы зашифровывать в своих картинах как традиционные новозаветные истории, так и рассказы о судьбах тех, чьи портреты писали на заказ. Да и этот тайный язык уступал языку поэзии, разнящемуся пусть не во всем, но во многом, как успела понять девушка, в Айзене и Кастилии. Она уже готова была примириться с тем, что все, что останется её уму – забавляться рифмами в долгие часы досуга, сделавшись украшением дома какого-нибудь графа или герцога, но все же не оставляла надежды на иную судьбу, такую, о которой мечтала, будучи девочкой, еще не в полной мере понимавшей, сколь многое из того, что могут в этом мире мужчины, не будет ей доступно потому лишь, что она лишена от рождения определённых анатомических признаков.
Например, сменить Сандавалов на кастильском троне Мединами. Не потому, что лично она чем-то была недовольна – вовсе нет. Королеву Софию Монсеррат находила женщиной умной и изящной, а о маленьком Филиппе говорить было рано. Пожелай София править до конца своих дней, из него вырастят безвольного и живущего только развлечениями человека, неспособного принимать решения без оглядки на мать и Совет. Сама Монсеррат поступила бы именно так, если бы ей пришлось выбирать между возможностью сделать этот мир лучше под своим правлением и судьбой ребенка. Но едва ли королева думала о том, чтобы предпринять что-то масштабнее строительства собора или устройства очередного карнавала. За неё думали граф Лаваньи и герцог де ла Серда. А их, немолодых уже людей, устраивало нынешнее положение вещей.
И ответ отца в том, что это именно так, стал для Монсеррат тому подтверждением.
Она только вздохнула и, будто бы озябнув, повела плечами.
- Дона Алехандро больше нет, короля Фердинанда больше нет. Кто мы, чтобы спорить с волей Господа, решившего, что именно ты, отец достоин править герцогством и теперь Кастилией? Рикардо – славный юноша, но видишь ли ты его во главе Совета после себя?
Она слегка покачала головой и прошла к креслу у стола. Заваленного папками, стопками бумаг и шкатулками, в которых хранились письма от определённых людей. Открыла одну из них, ближайшую к той из которой часом ранее извлекла королевские письма к деду и брови её приподнялись в удивлении
- Письма от некой донны Катарины Сепульведа к дяде Федерико, - сообщила она, перебирая пальцами пожелтевшие от времени листы бумаги, - и от сестры Валентины из аббатства Святой Урсулы. Или это одна и та же женщина…
Она закрыла шкатулку и решительно отставила её в сторону.
- Думаю, с этим лучше наведаться к дяде. К тому же я давно с ним не виделась. Вот и повод для встречи.
Поделиться112025-08-10 22:55:06
Глубоко в сердце своём Диего чувствовал, что Монсита права. Кто он, чтобы спорить с волей Господа, чьей волей ему посчастливилось оказаться на нынешнем месте? Третий герцогский сын, чей удел — пожизненное жалованье, назначенное милостью старшего брата, да управление каким-нибудь в меру отдалённым замком, жена ещё, желательно, бесплодная, ну или одних дочерей родящая, которых можно пристроить замуж с хорошим приданым, не думая о земле в наследство.
Диего подался к наёмникам, предпочтя просиживанию задницы в плодородных угодьях — путешествие без цели и конца. От кондотты к компании, от компании к вольным капитанам наёмных кораблей. От самого юга Ойкумены, от обжигающего Абрасадора и встречи с серебряным драконом — до крайнего Севера, где даже в сезон хлебов может идти снег. От Леса на западе с его эльфийками, несущих от него с поразительной лёгкостью — до драконьих островов на востоке, за которыми лишь бескрайние глубокие воды. Дон Диего вскоре осел в Альтамире, куда перевёз и семью, но приключения на том не закончились. Не закончились и битвы на суше и море. Не закончилась служба королю, даровавшего ему титул валидо и ни разу за все эти годы не приближавшего к себе настолько кого-то иного.
Я сражался ради него, предавал ради него, убивал ради него… выживал ради него, считал “нас” чем-то дарованным свыше… чтобы узнать, что был продан к его весёлому двору будто девка в публичный дом.
— Господь ли решил, что я достоин править Кастилией?..
Огонь горечи, отчаянья и гнева вдруг загорелся с новой силой. Диего подорвался с места, с досадной запустил пятёрню в смоляные волосы. Лицо на миг исказилось страданием — невыносимым, невыразимым, не оставляющим места иному.
— Стой.
Перо дрожало в руке. Почерк плясал подобно ведьмам на шабаше. Лишь чудом и опытностью не оставив клякс, Диего свернул пергамент, едва чернила подсохли, и, запечатав его с пометкой "лично в руки", протянул Монсеррат.
“Узнал из писем старого короля к отцу, что меня будто шлюху подложили под Фердинанда.
Я знаю, что мне суждено вечность гореть в аду и надеюсь лишь, что эту же вечность буду топить отца в медовом вине.
Замок душит меня, Альтамира душит меня, я еду в Аскасо, пока не задохнулся вовсе и, видит Бог, я не знаю, как смогу вернуться обратно.
Разве не должен я быть отцу благодарен? Почему вдруг я вспомнил всё то, что так старательно не вспоминал?
Считай это моей исповедью, так что сохрани её втайне, а письмо сожги сразу же как прочтёшь.”
— Пусть брат отправит это… — если разум и попытался подать свой глас, то был обуздан чувствами в эту краткую заминку человека внезапно вырванного из собственной жизни, разъярённого и униженного, преданного, как никогда прежде нуждающегося в исповеди. — Уго Фрайбургскому. Теперь ступай.