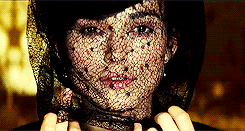Одна из самых завидных невест Кастилии покинула королевский дворец тихо, сердечно простившись с королевой и немногими своими подругами и со всей возможной деликатностью сообщив, что брачная церемония будет скромной, поскольку жених ее чрезвычайно занят. На деле же ей случалось уже четырежды бывать на свадьбах и мнение свое об этих увеселениях она смогла составить вполне. Умные люди составили таковое и до нее, сформулировав точно и емко в выражении «играть свадьбу». И игры такого рода Монсеррат не прельщали даже в том возрасте, когда ей дарили кукол и замки для них, помещавшиеся в комнате. Неведомо откуда выросшая в ее характере практичность заставляла ее прикинуть расходы в деньгах и времени и устать от приготовлений, пустых бесед и парада лицемерных поздравлений после венчания за считанные минуты, пока Мария помогала ей привести себя в порядок после осмотра графским лекарем. Процедуры унизительной и ставшей для нее испытанием на покорность, каковое Монсеррат прошла не потому что умела смирять гордыню, а потому лишь, что не могла позволить себе получить отказ от своего избранника из-за того, лишь, что не позволила бы какому-то лекаришке сообщить графу, что она здорова, и лишена телесных изъянов.
Возвратившись в Альтамиру, она отослала герцогу де ла Серда письмо следующего содержания:
«Дорогой отец, спешу поделиться с вами радостной новостью. Случилось мне встретить человека самых замечательных качеств и в сердце моем зажглась самая настоящая любовь. Посудите сами отец: он необычайно умен и талантлив, настолько, что устроил в подвале старой лачуги, где обретаются прокаженные, тайный монетный двор и чеканит там золотые ни внешне, ни по весу не отличимые от королевских, притом занимается этим вот уже седьмой год и не попался нашему кастильскому правосудию. Да и если бы попался – у него куплены альтамирские судьи и среди знати есть люди, которые к нему благоволят. Помимо ума и предприимчивости, он так же весьма образован и наизусть цитирует и «Евангелие от Сатаны» и Учение о перерождении душ, запрещенное семь веков тому назад, а также многие трактаты о планетах и звездах. Душевная его красота столь велика, что совершенно неважными становятся физические недостатки. Помимо невеликого роста и небольшого горба, он немного хромает и косит левым глазом. Но манеры его столь изысканы, что внешние изъяны скоро перестаешь замечать.
Простите отец, но любовь моя столь велика, что я не могла ждать ни дня после того, как Хуан сделал мне предложение, и мы обвенчались в тот же день. Тем более нам пришлось спешить, что я уже на сносях, просто боялась признаться вам в этом. Теперь же дитя наше родится, как и положено, в честном браке. Жить мы решили в Калабре, в нашем палаццо, так что надеюсь, к нашему приезду там будут готовы покои для нас с супругом и семерых его детей от трех предыдущих браков. По примеру моей покойной матери я решила принять всех детей моего мужа и воспитывать, как собственных, тем более что они, убогие, нуждаются в заботе и любви. Старший страдает падучей, второй его сын заикается, будучи напуган в детстве пожаром. Дочери рахитичны и слабы здоровьем, а младший сыночек родился с хилыми и слабыми ножками и едва-едва может ходить сам. Поэтому я решила всю себя посвятить новой своей семье.
Уверена, вы одобрите мое решение и благословите наш брак.
Таким могло бы быть мое письмо, отец.
На деле же я намерена вступить в брак с графом Арканара, доном Джанино Сантосом, мужчиной преклонных лет, бездетным вдовцом, готовым предоставить мне свободу в моих начинаниях и право распоряжаться доходами от приданого, вами для меня определенного. Чего не сделает ни один из мужчин, охочих до ваших денег и не способный понять моих целей и устремлений. Вы сами оставили мне право выбирать супруга по сердцу и уму, и выбор свой я сделала.
Надеюсь, наш союз вы благословите и почтите своим присутствием скромный обряд венчания в Арканаре
Ваша любящая дочь, Монсеррат»
Свадьба прошла в духе арканарских представлениях о веселье, но никто не мог бы сказать, что невеста грустна или печальна. Монсеррат Медина, в миг, когда сухие, перевитые выпирающими венами руки жениха откинули с ее лица покрывало, выглядела столь радостной, что в счастье её легко было поверить.
Порядки, заведенные графом в замке и городе, пришлись ей по душе, и Монсеррат разве что выказывала любопытство к тому, как все было в Арканаре устроено, не осуждая ничего и ничему не возмущаясь. Но затребовала себе лучших столяров и разослала по окрестным монастырям письма в которых просила отрекомендовать ей для службы женщину в летах, грамотную и тяготеющую к наукам, но верную монашеским обетам настолько, что жизнь среди мирян не смутила бы ее разум и не стала бы для нее искушением, с каковым она не смогла бы справиться.
Набрать в секретари мужчин было бы несравненно проще, но Монсеррат подчеркнуто не желала давать мужу ни малейшего повода для сомнений в ее верности. Да и повода упрекнуть в несоблюдении их договоренности и пренебрежении супружескими обязанностями не давала.
И хотя крови не пришли в положенный срок по прошествии десяти дней после свадьбы, выждала еще месяц, чтобы убедиться, что у нее и в самом деле полагать себя беременной. Радости это ей не принесло, но определённо доставило удовлетворение. Все шло согласно намеченным ею планам, и тело ее, которому надлежало выполнять женские функции – зачинать и рожать детей не подвело.
Можно было бы подождать и еще месяц, прежде чем сообщать об этом мужу, но зная, что лекарь Клементе может и без её ведома, силами своей магии, вызнать её состояние, Монсеррат не собиралась тянуть с этим. Разве что искала удобный повод. Удобный ей.
И поводом этим стал запрет графа беспокоить его этим вечером. Недомогание его всерьез обеспокоило Монсеррат – овдоветь через несколько недель после свадьбы в ее планы никак не входило. Года через три-четыре, имея на руках сына или двух, она и в самом деле готова была расстаться с супругом и надеть черное вдовье платье, но не теперь, когда её желания едва-едва начали претворятся в жизнь, да и то, что делалось нужно было затем лишь, чтобы обеспечить ей удобство в работе с чужими чертежами и проектами.
В спальню супруга Монсеррат заглянула в обычный час, но одета была в домашнее платье, одно из тех, что носила еще в Калабре, светлое, нежно-голубого цвета, со шнуровкой по бокам и на рукавах. Единственным украшением его был расшитый бирюзой и перламутром пояс, стягивающий легкую ткань на талии. Волосы она распустила, как делала обычно, наведываясь в графскую спальню и оттого выглядела особенно уязвимо и нежно.
К купели она спустилась после того, как расспросила перепуганного лакея, где искать графа, когда тому недужится, раз уж болеть в постели старику оказалось не с руки. Еще в первый свой осмотр замка, она отметила, что купальни будто бы сравнительно недавно перестроены и имеют два входа. Притом один из них выходит на запад, но вовсе не похож на скромную дверь черного хода для прислуги. Напротив, проем был отделан барельефом, как и основной. И именно к этому входу Монсеррат было удобно спустится нынче ночью. Тяжелую дверь она отворила, не стучась, и замерла на пороге, не сразу поняв, что же за действо здесь происходит.
Взгляд ее устремился на погруженного в купель с высокими бортами графа, и в первый миг, она испугалась, что тот мертв, что Людовико, пользуя его от недуга, переусердствовал в кровопусканием и оттого по полу от установленного на невысоком столике перед купелью с каменного предмета, размером с большой ларец, тянутся кровавые дорожки и чернеют кляксы разбившихся при падении тяжелых капель.
Но вот веки графа дрогнули, и он открыл глаза. Облегченно выдохнув, Монсеррат перевела взгляд на лекаря, как раз в этот момент развернувшегося от стола с ребенком на руках. Маленькие пухлые ручки безвольно свисали вниз и по ним из взрезанных вен струилась кровь.
Её замутило от запаха бойни, и графиня накрыла ладонью собственное горло, словно этим могла унять поднимающуюся из желудка вязкую горечь. Однако же ей хватило самообладания сглотнуть желчь и одними губами прошептать, обращаясь и к графу, и к лекарю: «продолжайте».
Взгляд её, меж тем задержался на телах детей разного возраста, лежащих по левую сторону от купели. Все они, мальчики и девочки, были нагими и перепачканными в собственной крови. При свете свечей, смуглая кожа их казалась темно-серой черными завитками змеились по белому мрамору локоны. И только заметив неподвижный, стеклянный взгляд, обращенный вверх, она поняла, что ребенок, равнодушно смотрящий на лепнину, укрощающую потолок купальни, мертв, равно, как и остальные.
Если что-то и ужаснуло Монсеррат во всем происходящем, то лишь собственное спокойствие. «Ты должна…» - материнский голос, пришедший из памяти чего-то, просил от нее теперь, как в детстве просил быть хорошей и послушной, уметь промолчать или улыбаться там, где этого ожидают. Сейчас же Маргарита Медина из ее памяти не знала, что именно должна делать ее дочь в такой ситуации. И Монсеррат сделала, что хотела – прошла к купели, ступая плавно и мягко и даже не потрудилась подобрать подол платья, когда присела на ее край. На губах её играла легкая улыбка – подобие скупой улыбки графа, каковой он соизволял обозначить свое удовлетворение. Едва ли Монсеррат догадывалась о том, как быстро она переняла от мужа и сдержанную его и мимику, и некоторые жесты точно так, как дети, впечатленные наставником, невольно копируют манеру речи и поведения.
- Пусть жрец ваш посвятит и меня, - попросила она, протягивая графу руку, - чтобы и я могла услужить той древней Богине, которую вы чтите, и вам, не давая сворачиваться крови в купели. Всё прочее, - левую руку она положила на свой живот, обозначая отложенную тему столь явно, что не понять жеста муж, желающий сделаться отцом, просто не мог, - подождет.
Подождут и упреки в ослушании, и осмотр лекаря, которому придется подтвердить её предположения или же их опровергнуть.
«Ты должна…» - шептал, срываясь в слезы голос Матери из воспоминаний. И Монсеррат понимала, что должна бы поступить, как должно нежной и слабой женщине – ужаснуться происходящего, закричать, упасть в обморок. Но если что ее и ужасало, то только собственный интерес к приоткрывшейся ей графской тайне, голодный, алчный, требующий ответов и желающий понимания не только творящегося здесь обряда, но и всего, что ему предшествовало и за ним последует. И в холодном этом интересе не было ни тени сочувствия к мертвым детям и к тем, явно одурманенным, которых Клементе еще предстояло убить, и даже к собственному ребенку, который, как подозревала Монсеррат, мог однажды оказаться среди предназначенных в жертву. Отчего-то же граф в преклонные свои годы оставался бездетен.
Граф…
Пожалуй, впервые, Монсеррат Сантос, смотрела на погруженного в кровавую купель старика, не как на графа Арканарского, но на как на Джанино Сантона, человека не просто в силу хорошего здоровья дожившего до старости и сумевшего сохранить гибкость ума и физическую силу, но знающего нечто такое, что не просто сделало его долгую жизнь возможной, но определяло все заведённые им порядки в Арканаре и окрестных землях. Так юная графиня не смотрела ни на кого прежде. Губы ее приоткрылись, словно она хотела что-то спросить, но желание это сдержала, опустив взгляд не из скромности или страха перед мужниным гневом, но потому лишь, что не выдержала прямого взгляда черных глаз графа.
И лишь когда Клементе, напряженный, с серым от усталости лицом, подошел к купели, держа на руках ребенка, она посмотрела на мраморный алтарь, на вырезанный на нем старушечий лик, обращенный к западу. Венец с зубцами на ее голове был не так впечатляющ, как должен был, если бы старуха эта являлась частью статуи.
Графине помнились рассказы об обнаруживаемых пастухами пещер со статуями Трехликих мадонн, которым невежественные простолюдины поклонялись на языческий манер, принося на алтари их хлеба и сыр. Они трактовали их просто – Вот Дева Мария, беспорочно зачавшая Христа, Вот Богоматерь, и третья – Матерь уже потерявшая сына, святая не миссией своей, а заступничеством за людей, простых и грешных, перед ним, восседающим на небесном престоле.
Святые отцы, узнав о таких мадоннах снаряжали отряды, приказывая статуи эти разбивать. Или же граф или герцог, на чьей земле случалась такая находка, успевал перевезти идол в свой дворец и присовокупить к коллекции антиков, подарить ценителю или же продать. Дочь маршала Кастилии могла позволялить себе писать с любыми вопросами любому кастильскому гранду, епископу или кардиналу. И вызнать все, и про места, где найдены были такие статуи. Довольно было желания купить подобную статую, если окажется, что у графа нет достойного его кровавых мистерий святилища.
- Есть у вас молитва, дон Клементе, - спросила она, дождавшись его возвращения к алтарю, - каковую надо произносить дословно, или ваша хранительница тайн приемлет всякое слово, идущее от сердца? И вы ли окропите алтарь моей кровью или мне надлежит самой?
Отредактировано Montserrat Medina (2025-08-03 10:23:57)