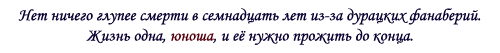[nick]Richard Oakdell[/nick][status]Я снова сам себе и друг, и враг навеки [/status][zv]<div class="lzname"><a href="ссылка на анкету">Ричард Окделл</a></div> <div class="lzrace">герцог Надора, 16</div> <div class="lzzv">оруженосец Первого Маршала Талига</div> <div class="lztext"></div>[/zv]
Рокэ Алва двигался с неторопливой, отточенной точностью. Он хоть что-то в своей жизни делал иначе, с чувствами на лице? Или даже с женщинами наедине оставался таким же невозмутимым, будто выбирает камзол с утра? Устыдившись неподобающей мысли, Ричард, несмотря на бледность, пошёл красными пятнами по щекам, отворачивая лицо. Звук льющейся в таз воды был единственным в комнате, и он бил по нервам. Здесь пахло травами, чем-то острым и лекарским. За такой шкафчик лекарь в Надоре, старый Француа, едва переставляющий ноги, и служащий семье уже даже не за деньги, а по привычке, отдал мы последние зубы. Поймав себя на том, что снова сравнивает роскошный в каждой мелочи дом Первого Маршала с проигрывающим, куда не посмотри, родным замком, Дикон сжал зубы, и втянул пропахший лекарствами воздух глубже.
— Сядьте, — приказал Алва, и Ричард безвольно опустился на край низкой банкетки, не решаясь посмотреть на него.
Алва подошел, мокрая, холодная ткань коснулась раны, и он зашипел, дернувшись. Боль была резкой, но какой-то правильной, чистой. Вопрос был брошен небрежно, но он заставил Ричарда поднять голову. Волна мстительной радости снова поднялась в нем, заглушая боль.
— Он больше не будет оскорблять имя Окделлов. И другие тоже не получится. Не раскроет рта, — вырвалось глухо и упрямо. Он смотрел прямо перед собой, на ряды склянок в шкафу. Это было правдой. Это стоило и боли, и этого унизительного лечения. Как будто он специально напрашивается.
Что-то едкое и обжигающее коснулось раны, Ричард вскрикнул, закусив губу и вцепившись пальцами левой руки в край банкетки. В глазах потемнело, комната качнулась.
— Придержите.
Он послушно прижал ладонью пропитанную лекарством ткань к своему плечу. Его пальцы дрожали. Это было так странно. Второй раз за неделю этот человек, убийца его отца, ковырялся в его ране. Так не должно было быть. Он должен был бы кричать на него, ненавидеть, а вместо этого сидел, как побитый щенок, и позволял себя лечить. И чувствовал, как щеки продолжали огнем. Его поймали, как мальчишку, стянувшего пирожок с кухни. И не стали даже ругать. Просто констатировали факт. Это было хуже любой порки. Он ожидал гнева, наказания, а получил лишь сухой, безразличный совет.
— Идите спать, Ричард. На сегодня с вас достаточно развлечений.
Он поднялся, как будто уже сне, прижимая руку к груди, и побрел в свою комнату. Он ожидал, что его вышвырнут, а его отправили спать. Он был готов к буре, а получил штиль. И эта тишина пугала и сбивала с толку больше, чем любой крик.
* * *
Утро было серым. Плечо ныло, мышцы, не привыкшие к настоящему бою, гудели. Когда слуга сообщил, что его светлость ждет сеньора Окделла к завтраку, первой мыслью Ричарда было отказаться. Сказать, что ему плохо, что рана болит и его лихорадит. Спрятаться в своей комнате, зарыться под одеяло и не видеть этого человека, не вести с ним этих странных, выматывающих разговоров.
Но он не мог. Во-первых, это был приказ, а приказа сюзерена он ослушаться не мог. Во-вторых, к своему стыду, он умирал от голода, проснувшись с урчащим животом и мыслями о том, что вчера так и не успел поужинать. Ослабевший организм, переживший болезнь и драку, требовал еды с настоятельной, животной силой. И эта простая, приземленная потребность перевесила и страх, и гордость.
Догадливый Хуан, человек ли он вообще, или тоже семя Леворукого, как и его господин, прислал мальчишку с кухни, чтобы тот помог раненому Ричарду одеться, он же принес свежую сорочку взамен испорченной, и помог подвесить руку на перевязь.
Есть левой рукой было непривычно, но не так, как размахивать шпагой, а потому справлялся Дикон отменно. С долей стеснения думая, конечно, о том, что стоило бы быть скромнее, и не сметать всё с тарелок так быстро, а проявить аристократическую сдержанность, но голод был сильнее. К тому же уколотую гордость исцеляла мысль о том, что так он истребляет запасы Алва, и живот с головой сходились в балансе.
Так что за завтраком он со всем приличием молчал, не начиная разговор первым, и не поднимая от тарелки глаз, и уже решил, что так и будет, но вдруг Алва заговорил, и Ричард замер с куском хлеба на полпути ко рту. Он ослышался?
Он посмотрел на Алву, пытаясь найти в его лице подвох, насмешку, издевательство. Но там не было ничего.
— Я принял решение. Раз уж вам нравится ввязываться в дуэли… когда вы снова сможете поднять шпагу, я начну учить вас фехтованию.
Ричард замер. Он медленно поднял голову, уверенный, что ослышался. Но Алва смотрел на него все тем же спокойным, изучающим взглядом.
— Тогда, возможно, в следующий раз мне не придется латать на вас дыры.
Вот оно. Укол. Но он был почти… Шутливым? Нет, это слово не подходило к Алве. Но в этой фразе не было злости, не было гнева. Только сухая, деловая констатация, и под ней — что-то еще, чего Ричард не мог понять. Это было похоже на… Поддержку?
Бред. Как может Рокэ Алва поддерживать сына человека, которого он убил? Зачем ему это? Этот вопрос снова завис в голове Ричарда, не найдя ответа.
Но факт оставался фактом. Его не наказали за ложь. Его не отчитали за дуэль. Вместо этого ему предложили то, о чем мог только мечтать любой мальчишка в Талиге — уроки от лучшего фехтовальщика страны.
Изумление вытеснило все остальные чувства. Ненависть, страх, гордость — все смешалось в один большой, звенящий ком в его голове. Рокэ Алва, убийца его отца, предложил ему меч. И в этот момент, впервые за все это время, Ричард почувствовал не ненависть, взрощенную матерью и заветами, а растерянное, совершенно неуместное любопытство. И капельку благодарности, которую он тут же постарался затоптать поглубже, как ядовитую змею.
* * *
Всё, что ощущал герцог Жоан-Эразм Колиньяр – это ярость, раскаленная добела, словно металл в кузне. Она вспыхнула, как только лекарь отступил, и он увидел, что выродок Окделл сотворил с лицом его сына.
Это был не просто порез, не благородный шрам, полученный в честном бою. Это была уродливая, глубокая борозда, пересекающая щеку Эстебана от скулы до самого уголка губ, искажающая его лицо в вечной, кривой усмешке. Это было клеймо. Публичное унижение, вырезанное на лице наследника дома Колиньяр. Все, что он строил — репутацию, влияние, уважение, — все было осмеяно этим одним взмахом шпаги в руках сына мятежника. Эстебан рыдал, но не столько от боли, сколько от бессилия и стыда. И каждое его всхлипывание было ударом молота по нервам Жоана-Эразма.
В первые минуты это был просто гнев отца, слепой и всепоглощающий. Но когда первая волна схлынула, на ее место пришел холодный, расчетливый гнев третьего по влиятельности человека государства. Это было не просто оскорбление его семьи. Это был вызов всей системе, которую он представлял. Позволить этому сойти с рук — значило признать, что дикие, варварские кодексы этих вымирающих «Людей Чести» все еще имеют вес. Значило позволить тени мятежа снова упасть на столицу.
Нет. Он этого не допустит.
— Карету! — приказал он, и слуги бросились исполнять, не смея поднять на него глаз.
Он не будет писать писем. Он не будет отправлять гонцов. Он поедет сам. Он, вице-кансильер Талига, явится в логово этого кэналлийского Ворона и потребует справедливости. Не чести, не сатисфакции, а закона. Того самого закона, который ставит его, Колиньяра, верного слугу Олларов, выше любого Окделла, будь он хоть трижды герцогом.
Путь до особняка Алвы показался ему одновременно и слишком коротким, и бесконечно долгим. Он сидел на бархате сидений, глядя в окно на проплывающие улицы, но не видел их. Он видел лицо своего изувеченного сына. Он репетировал свою речь, оттачивая каждое слово, наполняя его праведным гневом и силой своего положения.
Особняк Алвы встретил его холодной, надменной тишиной. Все здесь было безупречно, отполировано, совершенно — и от этого совершенно безжизненно. Этот дом был памятником не человеку, а его власти. Каждый слуга, замиравший на его пути, двигался с бесшумностью тени, и в их пустых, вышколенных взглядах Колиньяр видел лишь отражение их хозяина — холодное, презрительное и чужое. Это только подстегнуло его ярость.
У дверей столовой, куда вёл его дворецкий, его путь преградила фигура в темной ливрее. Главный слуга, Хуан. Его лицо было лишено всякого выражения.
— Его светлость занят, милорд.
— Он примет меня! — прошипел Колиньяр, вкладывая в свой голос всю тяжесть своего титула и должности. Он не собирался препираться со слугой. Он отстранил его с той уверенностью, которую дает власть и праведный гнев. — Немедленно!
Слуга отступил, открывая путь. Жоан-Эразм набрал в грудь воздуха. Он был здесь, чтобы требовать крови, и он ее получит. Герцог толкнул тяжелую дубовую дверь, он не входил - он врывался.
Столовая, где этот кэналлийский выскочка, как ни в чем ни бывало, завтракал, встретила его оскорбительным спокойствием. Рокэ Алва сидел за столом, в его руке был бокал с вином, а на лице — маска ленивого безразличия. Но взгляд Колиньяра метнулся дальше. У противоположного конца накрытого стола сидела еще одна фигура. Бледный юноша с перевязанным плечом.
Ричард Окделл.
В этот миг вся тщательно выстроенная речь вице-кансильера рухнула. Ярость отца, первобытная и слепая, затопила его. Он увидел не оруженосца, не политический символ. Он увидел убийцу своего сына, сидящего здесь, под защитой, и почти невредимого.
— ТЫ! — рык вырвался из его груди, и он, забыв про Алву, сделал шаг к Ричарду. Инстинктивное движение хищника, заметившего жертву. — Ты, отродье предателя! Ты смеешь сидеть здесь после того, что сотворил?!
Он остановился в паре шагов, впиваясь в Окделла взглядом, полным яда. Он не собирался его трогать. Пока нет. Он повернулся к Алве, указывая на Ричарда дрожащим от ярости пальцем, словно представляя вещественное доказательство.
— Вот он, Алва! Вот ваш щенок, который проливает кровь верных слуг короны! Вы будете сидеть здесь и пить свое пойло, пока он, упиваясь своей безнаказанностью, прохлаждается под вашей крышей?!
Он снова перевел взгляд на Ричарда, который смотрел на него с упрямой, ненавистной гордостью. Точно так же, как смотрел его сгнивший в земле отец. Яблоко от яблони.
— Посмотри на него! Он даже не раскаивается! Он гордится своим грязным делом!
Наконец, он заставил себя отвернуться от мальчишки и вновь сосредоточиться на главном виновнике.
Жоар-Эразм навис над столом, его багровое лицо было искажено гримасой гнева.
— К Леворукому все приличия! — взорвался Колиньяр, ударив кулаком по углу стола.
— Ваш щенок, ваш выродок Окделл, изуродовал моего сына! Он вызвал его, спровоцировал его и намеренно изувечил! Вы понимаете, что это значит для будущего наследника дома Колиньяр?! Это было нападение! Мерзкое, подлое нападение! Сын предателя, которого вы пригрели из одному вам ведомого каприза, располосовал лицо моему Эстебану! Он обезображен! Вы понимаете это, Алва?!
Он отступил на шаг, выпрямляясь и обретая голос государственного чиновника. Его личная ярость переплавилась в холодную сталь официального обвинения.
— Я пришел к вам не как отец, но как вице-кансильер Талига. И я требую правосудия. Этот Окделл — не просто ваш оруженосец. Он символ старого мятежа, который вы, по какой-то причине, решили оживить и нарядить в свои цвета. Позволить этому сойти с рук — значит плюнуть в лицо королю и закону! Это дело чести не только моего дома, но и всего королевства! Позволять сыну мятежника безнаказанно калечить верных слуг короны — значит поощрять смуту!
Он сделал паузу, впиваясь взглядом в спокойное лицо Первого Маршала.
— Я требую, чтобы вы немедленно выдали его. Я требую его ареста. Я требую публичного суда и наказания, чтобы каждый в этой столице видел, что бывает с теми, кто поднимает руку на верных подданных Его Величества. Он должен быть выпорот на площади и с позором лишен своего незаслуженного титула!
Голос Колиньяра гремел в тишине кабинета.
— Это ваша прямая ответственность, Рокэ. Этот щенок носит вашу ливрею.